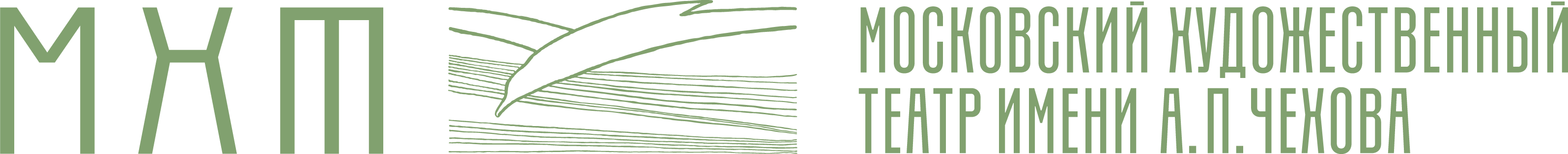Артисты труппыАртисты, занятые в спектаклях МХТ | Театр "Кривое зеркало"(Из мемуаров)Предисловие к Предисловию Жизнь нашего журнала, неотлаженная и плохо организованная, с самого начала и по сей день полна художественных случайностей (чтобы не сказать — случайной художественности). Благодаря этому мы, наверное, и держимся. Скажем, с первого дня нас не оставляет дух А. Р. Кугеля. Может быть, этому способствует наша постоянная и искренняя память о нём, может быть, Александру Рафаиловичу нравится читать свои строки, которыми обвешаны стены нашей редакционной комнаты, может, его нервирует творчество критика М. Пугеля, и он чувствует здесь что-то скрытое… Так или иначе, Кугель всегда с нами, но я никак не думала, что журнал вступит с ним в такие прямые взаимоотношения. В институте педагогом по зарубежному изобразительному искусству был у нас Николай Николаевич Громов. С ним мы прошли Эрмитаж, ему сдавали экзамен «на пленере»: Громов вывез весь курс в Павловск, и, бродя по дорожкам, беседовал с каждым в отдельности об искусстве («Пока мы идём вон до той беседки, назовите мне десять картин Веласкеса…»). Остальные, мало напоминавшие античную афинскую школу, тащились сзади, сгибаясь под тяжестью альбомов и других учебных пособий, срочно доучивая что-то и наблюдая, как начинает запинаться о гравий идущий впереди сокурсник, не способный с ходу назвать десять картин Ван- Дейка. Время от времени Николай Николаевич собирал нас на полянке и рассказывал об архитектурных особенностях павловского паркового ансамбля… Он был куратором нашего курса, и этим я всегда объясняла для себя его неизменную доброжелательность и многолетний интерес к моей персоне. Но когда (ещё только в идее!) мы начали журнал, любознательность моего коллеги по факультету Н. Н. Громова вдруг возросла. Он рассматривал проекты обложек, искренне интересовался ходом дел, сочувствовал, подбадривал, сопереживал, а когда мы встречались на заседаниях, писал записки о том, что лучше назвать журнал не «Петербургский театральный», а «Петеажур» и выделить эту абревиатуру на обложке. Словом, судьба театральной журналистики явно не была для него чужой судьбой. И вот однажды, когда у нас произошёл очередной «облом», № 0 очередной раз рисковал не появиться вовсе, я — без лица — стояла посреди кафедры и говорила кому-то: «Кугелю было легче…» — Николай Николаевич спросил: «А были Вы, Марина, тут поблизости, через два дома, на Моховой, где жили Кугель и Холмская и где помещалась редакция „Театра и искусства“?» Плохо образованная гео-топографически, я помнила только ранние адреса Кугеля, и мне казалось, что его брат Иона прыгал на одной ножке по редакции где-то в районе Апраксина… Близость квартиры Кугеля уже сильно возбудила меня, а Н. Н. продолжал, что, мол, недавно пытался найти следы редакции в своём «родовом гнезде», но не нашёл… Каком гнезде?! Я остолбенело слушала Николая Николаевича. Передо мной стоял человек, с которым мы прожили в институте двадцать лет,… внучатый племянник Кугеля и Холмской (своих детей у них не было), правнук того самого Ионы, который скакал на первых страницах кугелевских мемуаров… Через некоторое время Н. Н. Громов принёс нам рукопись З. Холмской. Её публикацию начинал в 1937 г. журнал «Рабочий и театр», но она пришлась на один из самых последних номеров последнего ленинградского театрального журнала. Когда мы искали «обрыв нити» и держали в руках последние номера 1937 г., М. Заболотняя, редактор отдела, обращала внимание на статью З. Холмской. Теперь всё сошлось, мы печатаем (в сокращениях) часть рукописи З. Холмской, начало публикации которой совпало с концом последнего журнала. Нужно было, чтобы прошло 56 лет, возник «Петербургский театральный журнал», а Николай Николаевич оказался потомком Кугеля. Нет, определённо: Александр Рафаилович не оставляет нас. М. Дмитревская P. S. Я поставила точку в тексте. Стол был завален бумагами — моими и не моими. Среди множества черновиков валялся листок, на котором кто-то из домашних только что посчитал «за свет, за газ»… Прежде, чем выбросить его, я посмотрела на оборот… Это была первая страница чего-то: то ли старой контрольной, то ли чьего-то реферата: «Год шёл 1897. Журнал назывался „Театр и искусство“. Издательницей и редактором его была З. В. Холмская… Первый номер вышел 5 января. В воскресенье…» И так далее. Как и откуда выплыл этот машинописный листок именно в эту минуту — не знаю. Наверное, его подкинул Кугель, который явно не оставляет нас. Предисловие В нашем доме среди семейных преданий всегда красочно и весело звучали рассказы о «Кривом зеркале» и его лучших пародийных спектаклях — «Вампука, невеста африканская», «Жак Нуар, или Анри Заверни», «Ревизор», «Гастроль Рычалова» и т. д. Непременными героями этих рассказов были создатели театра З. В. Холмская и А. Р. Кугель. Зинаида Васильевна Крестовоздвиженская (1866—1936), по первому мужу — Тимофеева, а по сцене — Холмская, была талантливой, умной и красивой актрисой. Это признавали даже те, кто с высокомерием и неприязнью относился к жанру театральной пародии, предпочитая ей уныло-плаксивую драму или мрачную безысходность трагедии. Сценическое дарование Зинаиды Васильевны было широким. Она с удовольствием и успешно играла сильные характерные роли (Катерина в «Грозе», Анисья во «Власти тьмы», Елизавета в «Горькой судьбине»), но дьявол-пересмешник наградил её острословием и талантом комических перевоплощений. Победило второе. В 1908 году она создала театр «Кривое зеркало» и двадцать лет жизни отдала своему детищу. На сцене театра «пародий и общественной сатиры» были сыграны сотни спектаклей, нацеленных, по словам Холмской, «против штампа, застоя, плесени и рутины». Коллектив кривозеркальцев пополнялся в разные годы очень своеобразными, разносторонне одарёнными людьми. В театре объединялись усилия драматургов, актёров, композиторов, художников. Сплав творческих устремлений был столь прочным и слитным, что оспаривать авторство некоторых спектаклей можно и по сию пору. О театре писали. Не так подробно, как о других, но всё-таки писали. Добрым словом отзывались о «Кривом зеркале» В. Воровский, А. Луначарский, Г. Крыжицкий. В «Листьях с дерева» несколько страниц уделил ему бессменный художественный руководитель А. Р. Кугель. И всё же главное слово в летописи «Кривого зеркала» принадлежит З. В. Холмской. Её воспоминания были написаны в тридцатых годах, то есть более полувека назад. Времени прошло предостаточно, чтобы объективно оценить одно из интереснейших начинаний отечественной культуры. Тем более, что осколки озорного, дерзкого, смешного и искромётного «Кривого зеркала» встречаем мы в самых разных и неожиданных сочетаниях — в Мастерской Аналитического искусства у П. Филонова, в театре миниатюр у А. Райкина, в «домашних заготовках» Клуба Весёлых и Находчивых, в скетчах петербургской «Четвёртой стены» и в рекламных «трёпах» «Радио Балтика». Лично мне дорого всё, что связано с «Кривым зеркалом». Моя бабушка — Екатерина Тихоновна, была племянницей Зинаиды Васильевны и, рано осиротев, получила от тётки материнское тепло, заботу и образование. Холмская же способствовала тому, чтобы она вышла замуж за журналиста Иону Кугеля, младшего брата Александра Рафаиловича. Отсюда есмь моя любовь к театру и, быть может, служба в нынешней Петербургской Академии театрального искусства. Отсюда мои надежды, что воспоминания З. В. Холмской, хотя бы частично, станут доступны читателям журнала. Н. Н. Громов IV. Новая постоянная база «Кривого зеркала». Евреинов, как таковой. Новые актёры и новые постановки. Сатиры Леонида Андреева. «Кулисы души», «Гастроль Рычалова», «Торжественное заседание памяти Козьмы Пруткова» и режиссёрская трагедия — буффонада «Ревизор». Сезон 1910—1911 гг. «Кривое зеркало» открыло в Екатерининском театре, на Екатерининском канале, в том самом здании, где теперь находится Белгоскино. Принадлежавший в то время Екатерининскому клубу дом этот, на крыше которого ещё сейчас уцелела вывеска «Кривого зеркала», в течение долгих лет был постоянной базой нашего театра. Мы играли тут все сезоны до середины 1918 года, когда, в силу целого ряда причин, «Кривое зеркало» временно прекратило своё существование. Сцена здесь была широкая и глубокая, зрительный зал красивый и достаточно вместительный, фойе уютное, светлое, изящное. Смущало нас только при заключении контракта с Екатерининским клубом местоположение театра — на Екатерининском канале, между Вознесенским проспектом и Подъяческой, где-то на отлёте, вдали от трамвайных линий. — Мариинский театр ещё дальше, а всегда переполнен, — убеждали нас правленцы Клуба. — Были бы пьесы, а публика найдётся. Не место красит театр, а театр — место. Изречение это оказалось справедливым, потому что, несмотря на невыгодные топографические условия, «Кривому зеркалу» за всё время аренды Екатерининского театра — никогда не приходилось жаловаться на отсутствие публики. Переезд наш в новое помещение совпал с уходом Унгерна из «Кривого зеркала» и приглашением на вакантное место режиссёра Н. Н. Евреинова. В то время Евреинов превозносился всеми, как исключительно блестящий режиссёр, смелый новатор и непревзойдённый знаток театра. Его книги — «Нагота на сцене», «Pro Scena mea», «Театр для себя», «Театр как таковой» с заумно вычурными, непонятными, непостижимыми рисунками модного кубиста Н. И. Кульбина, его постоянные выступления на всевозможных докладах, лекциях и диспутах, посвящённых театру, создали ему необычайную славу и популярность. «Огонёк», «Солнце России» и прочие иллюстрированные журнальчики помещали портреты Евреинова и на обложке и в тексте. Евреинова изображали и пешим, и конным, и на осле, и на верблюде, и за письменным столом в Петербурге, и у вершин пирамид в Египте. Имя Евреинова склоняли во всех падежах и «Биржовка», и «Петербургская газета», и даже сухая кадетская «Речь». Немудрено поэтому, что вступление Евреинова в «Кривое зеркало» было встречено труппой с огромным энтузиазмом и расценивалось как начало новой эры в истории театра. — Вот режиссёр, прямо созданный для «Кривого зеркала»! — восклицали актёры. — Какой размах! Какая фантазия! Какая эрудиция! Даже всегда относившийся очень скептически к режиссёрам А. Р. Кугель разделял это общее увлечение Евреиновым. — Ты упрямый хохол, Антон! — убеждал он единственного иронически настроенного к Евреинову актёра — Антона Потаповича Лося. — Ты упорно твердишь, что Евреинов пустоцвет и краснобай, ничем не доказавший ещё своих режиссёрских талантов. Но он докажет, докажет, Антон, потому что Евреинов — это яркая, талантливая индивидуальность, человек с большим художественным вкусом, с молодым темпераментом и выдумкой. Ты считаешь его самовлюблённым Нарциссом и рекламистом? Ах, ты путаешь, Антон. У Евреинова просто есть то, чего не хватает мне и Зине: он умеет импонировать. И если до сих пор безмозглые петербургские рецензенты писали о нашем оригинальнейшем в мире театре меньше, чем о каком-нибудь фарсе Валентины Лин, то теперь — увидишь, Антон, — благодаря Евреинову газеты станут отводить «Кривому зеркалу» целые подвалы! Со стороны часто увлекавшегося Кугеля это была, конечно, обычная «переоценка ценностей». Он невольно поддавался общему гипнозу, приписывал Евреинову таланты, которыми тот не обладал. Однако постепенно он освободился от такого внушения. Пелена очарования слетела с его глаз, и он раньше многих других увидел, что король-то был голый. Что касается меня, то я каким-то чутьём опытной актрисы чувствовала режиссёрскую бледность Евреинова, ловко окутанную только ярким фейерверком красивых фраз и парадоксов. Но я мирилась с его кандидатурой, так как видела, что, покорив актёров своим красноречием, он пользуется у них небывалой любовью и авторитетом. Наконец, я замечала, что даже «неистовый Рафаилыч» — как называли актёры А. Р. Кугеля — кротко и мирно «сосуществовал» теперь с режиссёром, не прерывая репетиций дикими сценами и криками. Как это случалось во времена Унгерна. Я уже говорила, что обычно мягкий и деликатный Унгерн превращался всегда на репетициях в сурового, неумолимого, не терпящего никаких возражений командира. Всякие замечания, поправки, дополнения и коррективы, которые кто-либо позволял себе сделать во время его работы, он считал дискредитацией своего режиссёрского авторитета и чуть ли не личным оскорблением. Приступая к репетиции, он каждый раз договаривался с темпераментным Кугелем, что тот не будет останавливать работы и выскажет свои критические замечания в момент перерыва. И каждый раз «неистовый Рафаилыч» нарушал это соглашение. — Оставить! Прекратить репетицию! — резким фальцетом командовал Унгерн, заметив сидящего боком к сцене мрачного, с надвинутой на глаза шляпой, нервно грызущего палку Кугеля. — Зинаида Васильевна, благоволите освободить меня от работы в вашем театре. Тогда мне приходилось выступать в роли укротительницы. — Александр Рафаилович! Ведь ты же обещал Рудольфу Альфредовичу не прерывать его во время работы. — Я и не прерываю! — отвечал, порывисто вскакивая с кресла, Кугель. — Я, кажется, молча сижу. — Но ты сидишь, демонстративно отвернувшись от сцены. Ты не смотришь на сцену. — Потому что на сцене происходит форменный бедлам! — кричал Кугель, жестоко избивая палкой ни в чём не повинное кресло. — Потому что актёры делают совершенно не то, что надо! Потому что барон, как упрямый немец, игнорирует мои критические замечания! — Ошибаетесь, Александр Рафаилович! Я всегда ценил и ценю ваши указания, — замечал Кугелю более сдержанный Унгерн. — Но сейчас я только вчерне намечал мизансцены. Успокойтесь, сядьте и посмотрите, как разворачивается это действие теперь. — Ну, теперь совсем другое дело! — говорил начинавший остывать «неистовый Рафаилыч». -Теперь я вижу жизнь, движение, образы. Теперь я могу спокойно смотреть на сцену. Наступало перемирие. Но бой мог возобновиться с прежней силой. Так было при Унгерне. А с Евреиновым у Кугеля не было никаких стычек, и репетиции протекали вполне нормально. Объясняется это тем, что Унгерн, не отказываясь от сотрудничества с Кугелем, упорно и прямолинейно отстаивал свою экспозицию, свои мысли и идеи. Тогда как вкрадчивый, гибкий, эластичный Евреинов умел, не подрывая своего режиссёрского авторитета, репетировать, воспринимать чужие мысли и идеи, ловко выдавая их за свои. В одной из своих бесчисленных саморекламных книг Евреинов писал, будто только ему одному «Кривое зеркало» обязано успехом и славой. А между тем, как раз наоборот — «Кривое зеркало», которое ещё до появления Евреинова было уже вполне оригинальным, самобытным, апробированным театром, создало Евреинову славу изобретательного режиссёра, хотя изобретали за него и я, и Кугель, и Б. Ф. Гейер, и В. Г. Эренберг, и многие актёры нашего культурного коллектива. Оттого-то, уйдя из «Кривого зеркала», и представленный самому себе, Евреинов оказался вдруг сразу серым и тусклым режиссёром. Да и вообще успех «Кривого зеркала» никогда не зависел от качеств того или иного режиссёра. Пьесы и крепкий, дружный ансамбль — вот что имело решающее значение для нашего театра. В создании нового репертуара, в постоянном искании новых кривозеркальных тем и заключались, собственно, главные трудности. — Как просто и легко вести дело во всех этих так называемых «серьёзных театрах?» — говорил Кугель.- Взял «Гамлета», «Короля Лира» или какуюнибудь другую уже готовую, давно написанную, давно проверенную пьесу и почивай на лаврах. А ведь нам приходится создавать свой собственный кривозеркальный репертуар, искать новые, совершенно особенные, оригинальные вещи, отвечающие стилю нашего своеобразного театра. Неужели никто из критиков не понимает, какой у нас необычайно трудный театр? Да, театр наш был трудный и притом не только в смысле репертуара. Углубление и расширение жанра «Кривого зеркала» вызывало необходимость пополнять ансамбль новыми кадрами, что являлось делом нелёгким. Ведь нам нужны были актёры гибкие, свободные от театральной рутины и штампов, актёры тонкие и культурные, понимающие специфику и стиль нашего театра. Мы старались поэтому искать новых актёров среди молодёжи, надеясь создать из неё настоящих «кривозеркальцев». — Александр Рафаилович, что вы нашли в этом юноше? — спрашивали Кугеля. — Ведь он же форменный дуб. — Нет, вы несправедливы к нему, господа! — отвечал Кугель.- У Киселёва есть юмор в глазах. У многих кривозеркальцев юмор занимал какую-нибудь определённую часть их индивидуальности и соответственно этому говорили, что у имитатора Айседоры Дункан - Н. Ф. Икара — огромный юмор в ногах, у Н. В. Грановского — юмор в спине и в движении, у С. И. Антимонова юмор находился в его неподражаемо-смешных интонациях. Но юмор, который увидел Кугель в маленьких глазах Киселёва, абсолютно никого не смешил, оставаясь «огнём умственным», а не настоящим. Кугель, конечно, понял вскоре свою ошибку и говорил в своё оправдание: — Что ж, и на старуху бывает проруха. Очевидно, когда актёр бездарен, у него находят юмор в глазах. Несмотря на такие промахи, нам всё-таки удавалось находить удачное пополнение и сохранять тем самым силу нашего кривозеркального ансамбля. […] Очень широкий диапазон был у такого яркого кривозеркального актёра, как Л. А. Фенин, который играл и Страфакамила в знаменитой «Вампуке», и характерную роль Борзой — Невзорова в «Гастролях Рычалова» и пародийного польского графа-авантюриста в пародийной салонной пьесе Гейера «носовой платок баронессы» и, наконец, дал целый ряд положительных драматических образов, играя ведущие роли в многообразном репертуаре «Кривого зеркала». Главным характерным качеством его талантливой артистической индивидуальности являлся темперамент, счастливо уживавшийся с ярким юмором. А. П. Лось — комик-фат — по преимуществу был незаменим в ярких гротесковых вещах и в пьесах сатирического плана, но чисто пародийные образы у него получались недостаточно яркими. Наоборот, С. И. Антомонов и М. Г. Яроцкая были настоящими актёрами театра пародии. Никто из актрис лучше М. Г. Яроцкой не мог, например, сыграть в пародии Щербакова и Смирнова «Нравственные основы» роль учительницы, так тонко, в таких условно пародийных тонах дать сентиментально фальшивую дидактическую фигуру, созданную сентиментальной стряпнёй великосветской дамы-писательницы. Никто лучше Яроцкой не мог изобразить русской шансоньетной певицы в пародии на циркварьете «Замечательное представление». Она с неподражаемым юмором механически, как кукла, прижимала руку к сердцу и с деревянным, безучастным лицом пела «страстные» куплеты. Играл на тромбоне мой Фриц дорогой. Тромбон был казённым, а Фриц-то был мой. […] Любивший и ценивший всегда смех А. Р. Кугель забраковал, например, такую несомненно яркую, смешную пьесу, как «Иванов Павел» В. Р. Раппопорта. И когда актёры упрекали его за то, что он проморгал эту вещь, идущую с громадным успехом под непрерывный хохот публики, при переполненных сборах в «Троицком театре миниатюр» — «неистовый Рафаилыч» приходил в необычайную ярость и, бешено стуча палкой, кричал: -Никакая публика, никакие сборы, никакие аншлаги не изменят моих взглядов! Ваш «Иванов Павел» — пошлейший, зауряднейший водевиль, абсолютно не подходящий к стилю «Кривого зеркала»! Потерять стиль — это потерять лицо, превратиться в обычный вульгарный, мещанский театр миниатюр, спуститься до уровня уличной тумбы! Сохраняя свой стиль, «Кривое зеркало», хотя и оставалось по существу театром смеха, театром скепсиса и отрицания, не боялось показывать, однако, вещи окутанные дымкой поэзии и лирики. Таковы, например, были инсценированная Евреиновым арабская сказка «О шести красавицах, не похожих друг на друга», пантомима «Сумурун», сделанная мною по мотивам тех же сказок, китайская пьеса «Жёлтая кофта», переведённая Зинаидой Венгеровой, пантомима «Четыре мертвеца Фиаметты» и целый ряд интермедий, художественно оформленных в стиле «Blanc et noir» — черных силуэтов на светлом фоне. Имевшие всегда огромный успех у публики, эти «Blanc et noir» были моей выдумкой, талантливо претворённой в жизнь художником М. Н. Яковлевым. Побудило меня создать форму «Blanc et noir» желание как можно шире и полнее использовать наши вокальные и хореографические силы и придать случайным, частным дивертисментным номерам характер вполне законченных, стильных, художественно цельных интермедий. Техника наших «Blanc et noir» была очень несложной: ставился белый задник, натягивалась тонкая сетка и в середине двигались одетые во всё чёрное исполнители пасторалей, дуэтов или хореографических миниатюр, создавая красивое и оригинальное впечатление живых силуэтов. Привыкшая искать в «Кривом зеркале» непременно чтонибудь смешное, сатирическое, пародийное, публика смотрела с неменьшим интересом и на наши опыты в области серьёзного. Поэтическая сказка Магомета Эль Бассри «О шести красавицах, не похожих друг на друга» подкупала своей свежестью, новизной формы и оригинальностью. Здесь любопытен был сценический опыт — сохранение ремарок в лице сказочника, сидящего на просцениуме в своём ярком восточном платье и повествующего о прекрасном юноше и его невольницах. В роли сказочника очень стилен и живописен был Фенин и его приятного тембра голос с красивыми интонациями невольно приковывал к нему внимание зрителей. Прекрасного юношу мягко, тонко и задушевно играл молодой, красивый Освецимский. Вот только шесть красавиц, к которым Евреинов применил принципы своей книги «Нагота на сцене», были далеко не красавицами. Оттого-то наши актёры стали называть эту вещь пьесой «О шести красавицах, не похожих на красавиц». Пантомима «Сумурун», являвшаяся тоже данью модным в то время увлечениям восточной экзотикой, оставляла более яркое и сильное впечатление, чем «Шесть красавиц». Успеху «Сумурун» много способствовали темпераментная, стильная музыка Вл. Эренберга и насыщенная динамикой игра актёров. В заглавной роли Сумурун - жены Шейха, хороша была Яроцкая, дававшая много экспрессии и драматических переживаний. Захватывал силой своего темперамента Фенин, игравший Шейха. […] Переходя к основным пародийным и сатирическим пьесам нашего репертуара, нужно отметить, что, несмотря на постоянную острую нужду в яркой, смешной, кривозеркальной вещи, мы предъявляли к авторам очень жёсткие требования, и угодить такому строгому критику, как А. Р. Кугель, было нелегко. Если даже автору и удавалось добиться одобрения Кугеля, то с этого момента как раз и начинались иногда для драматурга «хождения по мукам». Кугель заставлял автора по нескольку раз переделывать пьесу. А когда несчастный драматург приносил последнюю редакцию, Кугель вдруг неожиданно объявлял, что первая редакция была ярче и интересней. От таких «вивисекций» не спасали авторов ни чины, ни звания, ни долголетний драматургический стаж. Даже Б. Ф. Гейер, талант которого так любил и высоко ценил Кугель, не избежал этой общей участи. На сохранившейся у меня рукописи «Воспоминаний» — этой одной из лучших пьес Гейера — чёткими и громадными буквами написано: — Переделано в 102 раз!! Впрочем, санкции Кугеля не всегда было достаточно. По установившейся в нашем театре традиции, каждая новая пьеса, кроме того, должна была ещё получить одобрение труппы. И случалось, что актёры отказывались ратифицировать соглашение дирекции с автором и отвергали пьесу. Я помню, как очень популярный в то время фельетонист Владимир Азов читал нашей труппе свою пьесу, одобренную и мною, и Кугелем, и режиссёром. Читал он хорошо, «с чувством, с толком, с расстановкой», подчёркивая наиболее смешные и остроумные, по его мнению, места. Актёры слушали его с напряжённым вниманием. Но когда он кончил, наступила вдруг зловещая, долгая пауза. Народ безмолвствовал, как в «Борисе Годунове». — Ну, что ж, господа, как вам нравится моя пьеса? — обратился Азов к актёрской громаде, стараясь прервать это тягостное молчание. Тогда встал актёр Н. В. Грановский, считавшийся, несмотря на свои юные годы, «старым» кривозеркальцем, так как начал работать в «Кривом зеркале» с первых дней его зарождения. — Я не знаю, разделяют ли товарищи моё мнение, — заявил он. — Но мне хочется сказать о вашей пьесе словами поэта: «Мне грустно потому, что весело тебе». Дружный, гомерический хохот, которым встретила эти слова актёрская громада, с несомненной ясностью показывали Азову общее мнение товарищей. — Понимаете, актёры не чувствуют вашей пьесы! — утешал в таких случаях Кугель ошарашенных авторов. — А если они не чувствуют вещи, они её всё равно провалят. Но когда Кугелю вещь казалась интересной и талантливой, он не считался с общим мнением и ставил её наперекор стихиям. Однако автору всё-таки выгоднее было получить всенародное признание своей вещи, потому что кривозеркальцы умели придавать яркость, стиль и оригинальность каждому произведению, которое им нравилось. В исполнении любого малоформенного театра рассказ Ф. М. Достоевского «Чужая жена и муж под кроватью» зазвучал бы как пошлейший фарс, как гнусная дискредитация великого писателя. А у нас это «происшествие необыкновенное» — инсценированное с большим художественным тактом нашим талантливым актёром и драматургом С. И. Антимоновым — воспринималось как жуткая глубокая трагикомедия. И даже такая, казалось бы, адюльтерная вещь, как пьеса Фёдора Сологуба «Всегдашни шашни», в нашей кривозеркальной трактовке вышла едкой и беспощадной издёвкой над моралью и нравами высших господствующих классов и «первенствующего сословия». Успех «Всегдашни шашни» имели большой. Автора вызывали. И Фёдор Сологуб, счастливый и довольный, благодарил за яркую кривозеркальную подачу его вещи. — Вы углубили мою пьесу! Вы как-то по-своему перевернули её, выпятили сатирическую идею. — Потому что не авторы у нас хорошо пишут, а мы их хорошо ставим! — смеялся Кугель, перефразируя известное изречение Салтыкова-Щедрина. Очень ценил наш театр и Леонид Андреев, особенно после постановки в «Кривом зеркале» его сатиры «Любовь к ближнему». […] Вскоре Леонид Андреев написал для «Кривого Зеркала» новую большую политическую сатиру «Прекрасные сабинянки». Сильные, наглые, вооружённые с ног до головы, римляне похитили сабинянок. И трусливые, дряблые, хилые мужья сабинянок, вооружившись тяжёлыми сводами законов, являются в римский лагерь и доказывают насильникам неправомерность их поступка. — О преступлениях против собственности, — бубнит профессор. — Том первый, раздел второй, глава первая, страница первая… — Нельзя ли короче? — нетерпеливо перебивают римляне. — Чего вы хотите? — Мы хотим доказать, что вы были неправы, похитив наших жён! — докторальным тоном разъясняет лидер сабинян — хилый Анк Марций, протирая свои очки. — Мы хотим доказать, что вы — похитили, и никакими ухищрениями софистики вам не удастся оправдать вашего гнусного поступка. — Позвольте, уважаемый! — заявляют римляне. — Да мы и не спорим. Но когда довольные своей моральной победой сабиняне требуют возвращения жён, оказывается, жёны согласны возвратиться к пенатам только при условии, что мужья похитят их у римлян. — Вы толкаете нас на насилье! — возмущается лидер сабинян Анк Марций. — Нет! Пусть весь мир будет смеяться над несчастными сабинянами — они не изменят закону. И делая два шага вперёд, сгибаясь под тяжестью законов, сабиняне медленно удаляются… Римлян у нас играли самые дородные, красивые и высокие актёры нашей труппы — Лебединский, Фенин, Малшет, Крылов, Олчанин, Егоров, Наумов. А хилых, тщедушных, слабых законников-сабинян изображали хилые, тщедушные, низкорослые — Подгорный, А. Ф. Моки, Н. В. Грановский, В. Н. Донской и другие. Игравший лидера сабинян Анка Марция В. А. Подгорный загримировался Милюковым, и его появление на сцене было встречено дружным хохотом всего зала. Но самое замечательное в нашей постановке была сочинённая Вл. Эренбергом музыка, под звуки которой двигались, делая два шага вперёд — шаг назад, кадеты сабиняне. Два шага вперёд — и раздаются бодрые, сильные, воинственные звуки «Марсельезы». Шаг назад — и «Марсельеза» переходит в какое-то гнусное, заунывно-жалобное, трусливое завывание побитой собаки. Эта кадетская «Марсельеза», вызывавшая всегда дружный хохот и несмолкаемые аплодисменты публики, ярче всякого текста подчёркивала и выявляла политическую физиономию и трусливую половинчатую тактику так называемой «партии народной свободы». Вообще «Кривое зеркало» никогда не отказывалось от политической сатиры. Но, к сожалению, талантливых сатирических пьес было немного, да и цензурные препоны мешали их развитию. Вот отчего мы предпочитали брать форму пародии, форму достаточно гибкую, в которую можно было включить не только темы театральные и литературные, но и бытовые. […] Счастливое сочетание этих двух начал представляла, несомненно, пародия-сатира «Гастроль Рычалова». Написанная авторами неувядаемой «Вампуки» — князем Волконским (Манцениловым) и Вл. Эренбергом — пьеса эта оказалась более яркой, более смешной и доходчивой, чем «Невеста Африканская», «Вампуку» мог понять и оценить рафинированный зритель. «Рычалов» был доступен всем. «Гастроль Рычалова», наконец, не только пародия на провинциальные условия театральной работы, но и яркая, беспощадная издёвка над халтурщиками, над развязными гастролёрами и над невежественными, не желающими совершенствоваться лицедеями. Созданный Лукиным образ Рычалова явился классическим для игравших эту роль актёров. Это был чванливый, комически важный, самовлюблённый гастролёр, нагло и презрительно обращавшийся со всей труппой. И только разговаривая с интервьюером, он позволяет себе быть царственно снисходительным и милостивым, развязно и с апломбом отвечая на все вопросы. — Какое количество броненосцев вы считаете необходимым для защиты берегов России? — 57! — не задумываясь отвечает Рычалов — Лукин, грациозным кивком головы давая понять журналисту, что интервью окончено. Исполненной необычайного достоинства походкой он медленно уходит за кулисы и вдруг, обернувшись в пол-оборота, глубокомысленно изрекает, очевидно, где-то им подхваченный и перепутанный афоризм: — Смех настоящего юмора есть жалобный крик тяжелой тоски по внутренней родине. Яркие, смешные и неожиданные переходы давал он в самой опере, изображая рыцаря мальтийского ордена Парбле де Касаньяка. — Не наваливайтесь на меня! Вы мне петь мешаете! — злобно шипел он примадонне. И затем страстным, нежным голосом пел: О, душа моя открыта Перед тобою, Маргарита! […] Не менее козырной вещью нашего репертуара была очень смешная, яркая и злая пародия на юбилейные заседания. Называлась эта вещь «Торжественное заседание, посвященное памяти Косьмы Пруткова». Авторы «Торжественного заседания» — тогда ещё никому не известные молодые московские студенты Н. Г. Смирнов и С. С. Щербаков — сделались вскоре постоянными кривозеркальными драматургами и написали немало талантливых пьес для нашего театра. Однако «Торжественное заседание» было самым смешным и самым остроумным произведением из созданных ими вещей. Впервые поставлено было у нас «Торжественное заседание» в юбилейный спектакль, посвящённый духовному отцу «Кривого зеркала» — первому создателю и основоположнику русской пародии Косьме Пруткову. В эти дни и зрительный зал, и фойе нашего театра были разукрашены красочными рисунками, портретами и плакатами с изречениями Косьмы Пруткова. И даже в вестибюле стоял увенчанный лаврами бюст незабвенного Косьмы, и его смешная самодовольно-спесивая физиономия горделиво возносилась над толпой. Но вот раздвигался занавес и начиналось «Торжественное публичное заседание, посвящённое памяти Косьмы Пруткова». За зелёным столом президиума сидел преисполненный важности председатель Лебединский, бородатый профессор Воскресенский — Антимонов, элегантный, пшютоватый приват-доцент Никудыкин-Нитудыкин — Наумов, сухой, с острой бородой, с потусторонними мистическими глазами литератор Межерепиус — Подгорный и дряхлый, беспрестанно чихающий и кашляющий генерал Крючковский — современник незабвенного директора пробирной палатки и литератора Косьмы Пруткова — Лукин. Игравший развязного, пшютоватого приват-доцента Никудыкина- Нитудыкина — стройный, элегантный, красивый Наумов с привычной развязностью поднимался на кафедру и, заявляя, что он не будет говорить о значении Пруткова в истории мировой литературы, не будет говорить о его творчестве, садился за стол президиума, так ничего и не сказав о юбиляре. Его сменял почтенный профессор Воскресенский в исполнении Антимонова. С семинарским акцентом, разглаживая свою почтенную бороду он рассказывал публике смешную биографию Пруткова, заканчивая свою речь патетической тирадой: — Одиноким холостяком он родился, одиноким холостяком и умер. […] Появление «Ревизора» явилось огромным событием в театральном мире. О «Ревизоре» говорили всюду и везде. Даже обычно отводившая скромное «петитное» место нашему театру петербургская пресса писала о «Ревизоре» огромные статьи и фельетоны-подвалы. Как создался «Ревизор»? Кому пришла в голову такая смешная мысль — показать одну и ту же вещь в пяти различных постановках, превращающих «Ревизора» в пять совершенно не похожих одна на другую пьес? «Ревизор в пяти постановках», хотя и считается написанным Евреиновым, создавался коллективно. Автором текста был Евреинов, но пролог — лекцию, поясняющую каждую картину, написал Кугель, стихи к «Ревизору» по Рейнгардту сочинил С. И. Антимонов, а идея показа одной и той же классической вещи в пяти различных постановках принадлежит мне. — Хорошо бы взять какую-нибудь наиболее яркую сцену из хорошо знакомого публике классического произведения и затем показать эту же сцену в постановке различных модных режиссёров! — говорила я, варьируя, в сущности, уже созданный Гейером принцип изменения одного и того же сюжета в «Эволюции театра». — Гениальная мысль! Браво, браво, Зинаида Васильевна! Немедленно пишу на эту тему! — восторженно кричал Евреинов. — Возьмём «Ревизора»! Да, да! «Ревизор» Гоголя как канва, как основа. Гениально! Он начал писать отдельные сцены: «„Ревизор“ по Станиславскому„, „“Ревизор“ по Максу Рейнгардту„, „“Ревизор“ по Гордону Крэгу» и, наконец, «„Ревизор“ по Максу Линдеру». Пятый «Ревизор», с которого начиналась эта режиссёрская трагедия-буффонада, был «Ревизор» гоголевский, настоящий — первая сцена первого действия — чтение Городничим письма перед собравшимися чиновниками. Получалось, действительно, пять совершенно различных «Ревизоров». Однако этим отдельным фрагментам недоставало общего скрепляющего их цемента. […] моей идеей показа «Ревизора» в различных режиссёрских интерпретациях А. Р. Кугель решил сам создать связующие звенья между отдельными сценами. Он написал пролог — лекцию, которую читал перед каждой картиной «Чиновник особых поручений при дирекции Кривого Зеркала» В. А. Подгорный, с тонким юмором объясняя публике характерные особенности и приёмы того или иного постановщика. Весь свой яркий талант театрального критика, всю свою ненависть к режиссёрскому натурализму и формализму, к калечащим пьесы режиссёрским интерпретациям вложил Кугель в сочинённые им пояснения. Получился очень смешной, острый и злой фельетон-памфлет на режиссёров, помогающий самому неподготовленному зрителю воспринимать юмор и сарказм кривозеркального «Ревизора». Пожалуй, самой выразительной и самой смешной сценой был «„Ревизор“ по Станиславскому„. Натуралистическое толкование переносит действие в Миргород, на Украину, и поэтому Городничий и все действующие лица говорят с украинским акцентом. — Съогодня усю ничь мени снились якись две звычайные крысы! — говорил Городничий — Фенин. — Прийшли, понюхали — тай пишли геть. Ось, послухайте письмо, що получив я вид Андрея Ивановича… Но когда он брал в руки письмо, начиналась невыразимая натуралистическая какофония: мычали коровы, ржали кони, блеяли овцы, пели петухи, кудахтали куры, пронзительно мяукали кошки и отчаянно лаяли собаки. Вообще, текста в этом „“Ревизоре“ по Станиславскому» почти не было, и гоголевские слова заменялись здесь натуралистической игрой бытовыми деталями. Одетый в нижнее бельё Городничий кряхтел, сопел, потягивался спросонья, почёсывался, пил квас и затем, сняв с ноги ночную туфлю, долго и беспощадно преследовал и убивал мух. В постановке немецкого режиссёра Макса Рейнгардта от гоголевского «Ревизора» остаются одни «рожки да ножки». Текст здесь, конечно, как принято у Рейнгардта, переложен в стихотворную форму немецким поэтом Гуго фон Гофмансталем и, ссылаясь на слова самого Гоголя, Рейнгардт делает главным действующим лицом гоголевской комедии Смех. Игравшая Смех Хованская в ярком костюме паяца, звеня бубенцами, появлялась в зрительном зале в сопровождении всех персонажей пьесы и вела их через «народ» на сцену под звуки бравурного немецкого марша. Городничий в немецкой каске, с усами а ля Вильгельм, зычным голосом командовал актёрами, которые совершенно стушёвывались перед весело плясавшими и скакавшими танцовщицами — Смехом, Сатирой и Юмором. Действие «„Ревизора“ по Гордону Крэгу» происходит в некоторой точке межпланетного пространства, в мистическом полумраке, где слышится гармония сфер, где Городничий выступает в виде духа тьмы, чиновники — какими-то привидениями, а по бокам стоят держиморды-квартальные в солдатских мундирах, но с ангельскими крыльями. Это тот внутренний душевный город, о котором упоминает Гоголь в своей «Развязке „Ревизора“». Громко трубят архангелыдержиморды, и появляются бледные мистические Ляпкины-Тяпкины, Хлоповы и Земляники. Вот и сам Городничий, закутанный в мрачную чёрную тогу. Полным глубокого внутреннего страха голосом он мистически заунывно поёт: — Я пригласил вас, господа, с тем, чтоб сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор! И хор чиновников подхватывает последнюю фразу под звуки органа, играющего реквием. Корчится от невыразимых мучений совести Городничий — Фенин. И совершенно рыдающим голосом выкрикивает: — Иван Кириллович потолстел и всё играет на скрипке… Звуки органа и хора, поющего реквием, становятся всё громче, всё сильнее, превращаясь наконец в какую-то жуткую мессу. Последняя интерпретация — «„Ревизор“ по Максу Линдеру». Это сильно комическая кинокомедия, изобилующая, конечно, обычными кинотрюками. На экране появляется безграмотное, с орфографическими ошибками письмо. Городничий, превращённый в Глупышкина, мечется по сцене, и за ним бегут персонажи «Ревизора», сталкиваются с пирожником, рассыпают пироги и падают друг на друга в общей кино-свалке. Исполнялся «Ревизор» с редким воодушевлением, и роли у нас были распределены очень удачно. Городничего, как я уже говорила, играл Фенин, Ляпкина-Тяпкина — Антимонов, Марью Антоновну — Яроцкая, и Анну Андреевну играла я. Повсюду — и в Петербурге, и в Москве, и в провинции — «Ревизор» проходил с огромным успехом. Да, в репертуаре «Кривого зеркала» теперь уже было много ярких, смешных вещей. Но публика ждала от нас всё новых и новых произведений, и мы создавали их даже под гром «грозы военной непогоды», даже при шуме и грохоте неожиданно разразившейся мировой войны. Зинаида Холмская | |
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ — КОНСТАНТИН ХАБЕНСКИЙ