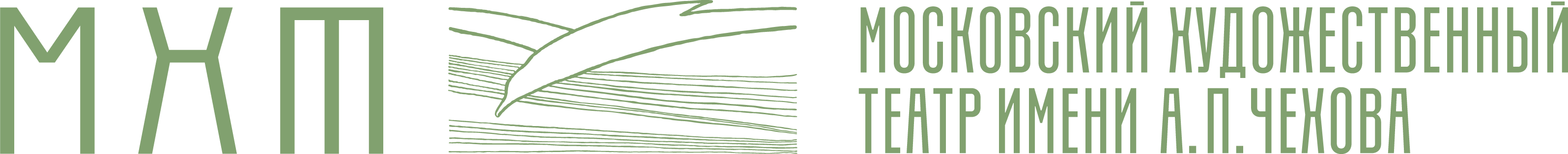Режиссеры | Русский хоррорБолее ста лет прошло с тех пор, как русский театр обрёл священную ношу: моральный императив пьес Льва Николаевича Толстого, особенно «Власти тьмы», и с тех пор «тае, не того», а также хрустящие косточки убиенного младенца вызывают в душе сильнейшие катартические переживания. В ужас в своё время пришёл и обер-прокурор Синода К. П. Победоносцев, но в его чувствах катарсиса не было. Он возмутился и посоветовал императору запретить. Пьеса, позволю себе напомнить, в России была запрещена, в силу многолетних цензурных притеснений сцену увидела сначала за границей и имела грандиозный успех в Европе. Это был успех жестокого искусства, натурализма и морализма. Толстой предъявил человечеству вексель и требовал оплаты переустройством всей духовной жизни, включая религиозное обновление. С тех пор, с 80-х годов ХIХ века, «Власть тьмы» не часто призывали в свидетели. Среди тех, кому ноша не показалась обременительной, — Борис Равенских и Игорь Ильинский, авторы легендарной «Власти тьмы» на сцене московского Малого театра. В Петербурге ныне настал год Льва Николаевича Толстого, то есть час художественно-прокурорский. Сразу две пьесы его — «Власть тьмы» и «Живой труп» поставлены на двух главных сценах, академических и знаменитых, — в БДТ и Александринке. Произошло то, что некогда называли «заказом времени». Не сговариваясь, два режиссёра, как раз не склонные поддаваться буквальной, сиюминутной агитации и не склонные из классики кроить ползунки на младенцев (конкретно имею в виду «Лес» Кирилла Серебренникова и «Федру. Золотой колос» Андрия Жолдака), обратились не к Чехову с его неуловимостями и не к Достоевскому с его всепрощенчеством, а к судейству Толстого — во «Власти тьмы» условному, а в «Живом трупе» — даже прямому.Темур Чхеидзе, автор «Власти тьмы» в БДТ имени Г. А. Товстоногова, — режиссёр, у которого не бывает случайностей в режиссуре. Это не означает, что у него главенствует рационализм, что он художник программист. Это значит, что всем толчкам фантазии, эмоциональным подсказкам и неожиданным мизансценам он находит убедительное оправдание в логике произведения и в его подводной глубине. Что касается «Власти тьмы» в БДТ, то её бросающаяся в глаза особенность — в русском колорите. Шали и полушалки, самовар, прялки, телега, скамьи и сундуки, песни, специальный говор на "а" с мягкими знаками на конце глаголов. В музыке — тяжёлый гул колоколов, церковные песнопения. В декорации Эдуарда Кочергина — фрагменты северной архитектуры: здоровенный крестьянский дом архангельской (к примеру) губернии с пристройками, рассчитанный сразу на несколько семей, на род. Треугольники крыши, ворота («тесовые, дубовые»), пол, приподнятый над сценой, — находятся в разных плоскостях, на разных уровнях; достоверность каждого фрагмента не сводит целое к бытовому правдоподобию, (однако целое, как мне кажется, излишне дробится). Место действия обозначено автором пьесы так: «Действие происходит осенью в большом селе. Сцена представляет просторную избу Петра». Чхеидзе и Кочергин как будто следуют этой ремарке, только исполняют на свой вкус. Существенное отклонение в том, что действие вынесено на подворье. То есть на русскую агору, она же плаха, где вершится народный суд. Спектакль, который разворачивается на миру, и есть суд. А зал, в таком случае, уж никак не меньше присяжных заседателей. Согласна, здесь есть преувеличения — ни Чхеидзе, ни Кочергин, ни актёры церемонии суда не изображают и не подражают ей. Но таково впечатление, таково настроение, которому невольно поддаёшься по ходу спектакля. Такова традиция русских романов о вине и раскаянии. Тем более, что спектакль — «следствие» по делу об отравлениях и убийствах обрастает свидетельскими показаниями, то есть открытиями, имеющими отношение и к пьесе Толстого. Одно из главных открытий касается Акима, его образа вообще и того, что играет Валерий Ивченко. Привычно считать Акима («невзрачного, богобоязненного») чуть ли не святым старцем. Предвестником горьковского Луки — но без лукавства. Ходячей безмолвной укоризной. После Игоря Ильинского-Акима, с его обнажённой трагизму жизни душой, трудно решиться на пересмотр этого образа. В БДТ решаются. Аким-Ивченко — слеп и младенчески беззаботен. Его вера — радостная, мораль — лёгкая. Придя к сыну, он свои нехитрые одёжки скидывает впустую люльку, так и провисевшую в доме Петра и Никиты без надобности. В ушанке, обмотанный тёплым женским платком, в лаптях (!), он сам — старый ребёнок, который жил, молился богу и не видел зла рядом с собой, не видел, что жена Матрёна — профессиональная отравительница. Он пугается злодейств, увиденных в семье Никиты, его детская мораль оскорблена, он убегает… и возвращается на свадьбу Акулины, простив или забыв то, что для истинного моралиста, каким был Аким Ильинского, непростительно. А свадебная картина третьего акта, настежь распахнутые ворота и нарядные люди, застывшие здесь, — этнографическая витрина, персонажи которой могли бы показательно двигаться, окажись они в современном музее восковых фигур. Толстой писал свою пьесу о нищей русской деревне. Чхеидзе ставит спектакль о богатеющем городе. Настойчивый русский колорит — это «наряд» возрождения. Видимость, оболочка возвращения к основам, тот внешний шаг, что должен убедить в связи новой России с её исконным дореволюционным прошлым, с 1913-м или хотя бы с 1910 годом. Наша новая Россия, всерьёз озабоченная сохранением нации и национального, хватается за шали и полушалки, пока власть забирает тьма. Наша новая Россия цепляется за последний вагон мирового прогресса, хотя инерция всё ещё держит её у края советской самобытности, где гуляло без препятствий зло, а новые времена только обновили его формы. Как и весь зал БДТ, я с каким-то горьким юмором вслушивалась в диалог Митрича (Георгий Штиль) и Акима о деньгах, которые не убавляются, а как раз прибавляются, если в банке лежат. Деньги в понятии всесильного чуда, вожделенной мечты, феникса из «банки» — это не из прошлого, это из настоящего. Вся «экипировка» спектакля и его внутренний строй — свидетельство нынешнего разлада в человеке между «глянцем» новизны и духовным падением. Чхеидзе видит единомышленником не только Толстого, он адресуется и к Островскому, автору «Бешеных денег» и «Банкрота», пьесе, в которой не было, как признавался цензор, ни одного порядочного лица, зато хватало «своих». Бесконечное умножение грехов и стыд за неправедную жизнь, свою и окружающих, — эти особенности национального сознания многократно запечатлены в русской прозе и драматургии. Корысть, похоть, бесстыдство, бесчестие «покрыты» сарафанами и «освещены» лучинами. Как в спектакле БДТ. Вместо национального словарика можно использовать словарь так называемых новых ценностей — результат будет тот же: подмены, «бешеные деньги», дешёвки в ранге свободы, благополучия, искусства. Видимость нового есть, а его самого — нет. Персонажи одурманены открывшимися соблазнами, и из человека, ничем и никем не останавливаемого и не защищённого (ни словом, ни делом), лезет зверь. Актёры играют жёстко, особенно женщины. У Ируте Венгалите (очень хорошая работа) Матрёна — решительная, грубая, по необходимости снисходительная, страшная баба, умеющая приласкать так, что выть захочется. На смену краткой идиллии с прялками и задушевной песней в первой сцене, прологе драмы, приходят скандалы, этакое семейное «нутро», взрезанное без жалости. Красивая Анисья Татьяны Аптикеевой — труслива, чувственна, алчна; Акулина у Нины Александровой называет Анисью «дьяволом», а сама идёт по её стопам и очень быстро превращается в жадную, злобную лисицу. Когда она рожает, женщины бегают в белых рубахах, а за сценой вместе с женскими криками слышен собачий вой. Женщины — рабы и хозяйки, утешительницы и ведьмы, животные с непомерными аппетитами. Два акта присяжные из зала могут собирать доказательства. В третьем — выносить приговор. Действие спектакля всё более собиралось вокруг Никиты, он в центре обвинения. Здоровый, добродушный, отзывчивый на женскую ласку, на отцовский привет, Никита (Дмитрий Быковский) развращается понемногу. Он не был таким, он стал таким, попав в круг «своих», усвоив силу денег, секса (по-нашему), беззакония и безверия. Толчком к раскаянию Никиты становится монолог полупьяного Митрича о том, что не надо бояться людей — похоже, роль Штиля, актёра, никогда не играющего в многозначительность, в спектакле Чхеидзе своего рода ключ к заповедям авторов. Не бояться людей — суть разрубить узлы, с людьми связывающие, с той всеобщей показухой, которой довольствуются и женщины, и даже богобоязненный дурачок и юродивый Аким. Режиссёр сделал всё, чтобы раскаяние Никиты выглядело личным актом. Режиссёр преуменьшил участие Акима в духовном перерождении сына (потому что Аким - лишь блаженный) и вовсе выбросил урядника, представителя власти, который Толстым написан. Он нашёл другой сильный ход — посадил, вернее, спустил Никиту в тот самый подпол, где закопан их с Акулиной ребёнок. Никита к финалу похож на христианина-неофита — сидит в земляной яме и стонет, душа его стонет. В нём жалость взывает к погубленным им, к Марине, им соблазнённой и брошенной, — и Марина является как ангел прощения. А после признаний перед «народом», этим свадебным лубком в раскрытых настежь воротах, Аким раскрывает ему объятия, и Никита припадает к его ногам как блудный сын. Вместе с этой трогательной картиной наступает полная, последняя тьма. Красивая старина уходит с подиума, в следствии о преступлениях против совести и добра точки не ставится… Чхеидзе и русская национальная драма — сочетание непривычное. Но, во-первых, уже говорилось об особом значении «русскости» для него. В своё время Мария Гавриловна Савина, играя Акулину, надевала шёлковые чулочки и рисовала между пальчиками на ногах грязь, по которой ходит её героиня. В такой буквальной и смешной правде театр Чхеидзе не нуждается. Во-вторых, колорит мог быть другим — если бы режиссёр ставил спектакль в другом городе, в другой стране. «Власть тьмы», пьеса, кажущаяся не подходящей для современного развлекательного театрального курса, вторглась к нам по полному праву. Два автора, драматург и режиссёр, сходятся в оценке того, что хорошо и что плохо, а это вне места и времени. Могу себе представить «Украденное счастье» в оранжевом колорите, и «Хаки Адзба», украшенный розами. Третий акт мне понравился меньше, чем два первых: стремление дойти до последней правды и согласие с тем, что она выглядит так, как финал толстовской пьесы (явный моральный нажим), как мне кажется, помешали режиссёру остановиться раньше, чем филантропизм одолел более привычные для Чхеидзе простоту и лаконизм. Поэтому возвращение «истинной» любви Никиты, Марины, в игре обоих не слишком убеждает. Другое дело «бабы» — в финале они сидят как надувные чучела; разодетые новинки модных бутиков в стиле «рюс». И безмолвствуют. За кого вы, господа присяжные зрители? За волю или за закон? За Федю Протасова или за господ в серо-голубых мундирах? За блюстителей и охранителей или за конченых людей? Но судебного азарта в спектакле Валерия Фокина нет. «Живой труп», премьера Александринского театра, — это срез по вертикали. Там, где светлее, наверху - жена Лиза, соседи, родственники, гости. Свет в прямом и переносном смысле. Внизу, где горит одна тусклая лампочка, в железной клети лежит Федя. Там — власть тьмы. Вертикаль их не связывает, от точки к точке линия рвётся. Когда Каренин и Лиза, сияющие от близкого счастья, берутся за руки и сходят на сцену, клеть медленно опускается ниже уровня пола. Когда Лиза, узнавшая о смерти Феди, рыдая, решается подойти к клети и хватается за неё, клеть пуста. Лифт, скользящий вверх-вниз, соединяющий свет (ложный или пошлый) и тьму (недоказанную и не опровергнутую), расположен в центре. Декорация занимает нескромно важное место. Это огромная лестничная клетка с лифтом, переплетением лестниц и ажурными решётками. Чугунная красота оплетает полутёмную сцену, распространяясь во все стороны. Сценическое воспроизведение литейного мастерства, выпуклый цветочно-лиственный декор — на первом плане, это собирательный образ Петербурга. Так выглядит экстерьер его. Интерьер в бывших доходных домах второй столицы славился витражами (ныне забитыми фанерой), подъёмниками (сейчас наглухо закрытыми или еле ползущими, с испачканными стенами и изгаженными углами). Бывшие парадные давно сделались «чёрными». Не заходя в квартиру, можно понять, что делается и там, и в мире. «Лестничная клетка» — так называется одна из пьес Людмилы Петрушевской, уже ставшая классикой. Валерий Фокин и сценограф Александр Боровский словно услышали перекличку двух пьес ХХ века, призыв одноактовки, и сделали свою — на два с лишним часа — примерно о том же. О том, что жить негде и нечем. Первым гибнет человек, город держится дольше. Оказалось, что перенести прошлое в настоящее (или наоборот) легко; для этого ни авторам, ни зрителям не нужно ничего преувеличивать или утрировать. Судьба Протасова — не исключение в истории и её социальном настоящем. Это русское сознание и русская судьба навсегда. Важнейшие изменения произошли не между лифтами времён Льва Толстого и лифтами наших дней, а между значениями совести для Феди Протасова 1900 года, Феди Протасова 1911-го или 1950 года, когда его играли Роман Аполлонский и Николай Симонов в Александринском и Театре драмы имени А. Пушкина, то есть на той же сцене, и для Феди Протасова в исполнении Сергея Паршина. Воли, то есть того шопенгауэровского стремления к органической жизни, что важно для Толстого, у нашего человека в 2006 году нет, как нет и воли в бытовом смысле. Это последний бич, бывший интеллигентный человек. Рядом с его подвальным ложем стоит без употребления стопка книг. Горизонталь — положение Протасова на протяжении нескольких первых сцен. Паралич воли и лежачий режим отменяют всё, что толстовскому Протасову обещало «восторг». Весь «десятый век, степь» с цыганским пением давно остались позади. Протасов Паршина опустился гораздо ниже Протасова Толстого. Ему достались в наследство крохи стыда. Унялся восторг, утеряна способность любить. Утрачен риторический пыл. Нехотя, через силу, пока его не схватят за воротник и не поволокут прочь, Протасов Паршина объясняет следователю, что тому негоже вмешиваться в тонкие перипетии любовного треугольника. О чём это он? — спрашиваешь себя. Каренин и Лиза в это время стоят спиной к Протасову, обнявшись, пряча лица. У актёра, которому досталась по всем понятиям выгодная роль, отняты все её эффекты. Сохранена суть, и Паршин суть передаёт тем, что всё ещё в Протасове умно, выразительно, красиво — голосом. Протасов Паршина — это негромкий баритон, это интеллигент, которого узнаёшь по мягкому тембру, по спокойным интонациям, по озвученной изредка мысли. В ночном свидании с князем Абрезковым Протасов-Паршин, лёжа на боку, с бутылкой в руках, пытается объяснить своё падение, своё положение — и бросает эту попытку за безнадёжностью объяснить что-либо. Кстати, это одна из лучших сцен, пожалуй, самая интимная и тёплая в сознательно холодном спектакле. Если бы «Живой труп» попал в руки куда более радикальному питерскому режиссёру, нежели Фокин (и я знаю какому), то у Протасова исчезла бы и говорливость, и способность к самоанализу. В образе Протасова Паршин передаёт то, что нашему переродившемуся в бомжа интеллигенту не под силу, — способность осмыслять происходящее. Тут натяжка против реализма. Но тут и согласие с искусством, выход для него, ибо клиника искусству противопоказана. Если громоподобный Николай Симонов, которого Берковский называл в этой роли святым Христофором, имел в запасе «небо», «восторг», звал к жизни, ударял по струнам-эмоциям своего сердца, то Протасов Паршина — на дне, на холодном полу подвала, за металлической сеткой. Оборваны все связи с «верхом». Он вяло раздражается всякой побудке. Только Маша ещё тормошит его, моет, одевает, приносит еду и… ждёт любви. Маша никакая не цыганка (здесь, в нашем настоящем, толстовская, да и вообще русская цыганщина — нарушение и правды, и вкуса, и возможностей современной масскультуры). Маша в исполнении Юлии Марченко — это сестра милосердия из нынешних бездомных и беззаветных, и ей всё-таки удалось справиться с апатией Протасова, вывести его из клети. Потом её миссия окончена, она навсегда исчезает. Поднявшись со дна на сцену, Протасов глупо позирует какому-то уличному портретисту (Петушкову), опершись на чугунные перила. Стреляется он в кабине лифта, наверху. В этом лифте до него катаются уличные девки с кавалерами, с гиком и хохотом гоняя машину и предаваясь пьяному сладострастию. «Живой труп» Фокина — третья петербургская комедия. Я не оговариваюсь: постановка пьесы Толстого мне тоже, как «Ревизор» и «Двойник», кажется комедией. Жестокой притчей о странном городе, вымышленном золотой мечтой, как в «Ревизоре», неузнаваемом, чужом, как в «Двойнике», увиденном бесстрастно, во весь фасад, в «Живом трупе». Рациональный, графичный спектакль с бесшумно двигающимися тенями на заднем плане, с вереницами персонажей на лестничных пролётах и ступенях, напоминающими о кукольной массовке «Ревизора», со сменами времени на день и ночь, не смешон, а мрачен и изысканно-комичен. Пик этого синтеза — совмещение двух планов, «верха» и «низа», в сцене с Иваном Петровичем Александровым (Алексей Девотченко). Когда светская публика уселась слушать трио композитора Леонида Десятникова, Гений, этакий мужичонка в шапчонке, принялся шуметь и ораторствовать, гнев свой обращая наверх, — и расстроил чин и порядок камерного домашнего вечера. Погрозил им снизу, пообещал подвиг и бунт — и ретировался, после чего концерт продолжился. Шапкозакидатель-Гений появится ещё раз, чтобы высокомерно «скинуть» Протасову пистолет, — и тоже исчезнет, как Маша. Раз нет оперного финала с последним прости самоубийцы на глазах у публики, не нужен и его антагонист, анархист Александров. В выборе актрисы на роль Лизы — Марина Игнатовой из БДТ — видится иронический план. Прекрасная исполнительница ролей Федры, королевы Елизаветы, вполне серьёзных, (хотя в «Марии Стюарт» есть сарказм по-женски, с кокетством), в «Живом трупе» Игнатова играет искреннюю и запутавшуюся женщину, любящую жизнь и любящую Протасова (что практически несовместимо), но и отчасти трагическую актрису, которой «данные» — роскошный голос с объёмом, с распевом, рост, гибкая, стройная фигура — употребить с толком не удаётся. Разве что в моменты крайние — счастья и горя, когда она с трагической наполненностью рыдает и рычит, прогоняя Каренина или со стыдливой радостью признаётся ему в любви. В задушевном ночном свидании Протасова и князя, моменте истины для обоих, Абрезков (Николай Мартон), по амплуа старомодный бонвиван и благородный отец, спускается в подвал в исподнем, на которое наброшен китель, и в домашних тапках. Семейные, светлые эпизоды — с болезнью и выздоровлением ребёнка, с доктором, а затем детские забавы, беготня няни, а также ссоры женщин: матери и двух дочерей, Лизы и Саши, из-за Протасова, визит Лизы к Карениной (тоже верхний план) — сделаны с заметными ироническими уколами, порой близкими к насмешке. Более всего досталось Виктору Каренину (Виталий Коваленко). Он маменькин сынок, со всё ещё срывающимся от обиды голосом, переходящий из рук одной женщины в руки другой. Лиза, провожая его с письмом к Феде, поправляет воротник пальто, невольно входя в роль заботливой жены. Во время переговоров Лизы и Карениной Виктор с князем стоят, обнявшись, дрожа, внизу возле лифта, как два ребёнка, ожидающие решения своей участи от женщин. Таких акцентов в спектакле много. Актёры охотно поддаются на провокации комедии, и спектакль испещрён её штрихами. Они особенно заметны рядом с общим холодно-отстранённым тоном его. В версии Фокина появился персонаж, в котором то и другое, комедия и отстранённый взгляд, объединились. Это не лицо от автора, а ещё один обитатель лестничной клетки — консьерж, шантажист, человек-свидетель. Неопределённая личность, первой появляющаяся на сцене и последней с неё уходящая. Некий Турецкий (Вадим Романов), в восточной шапочке, остаток первоначального «Живого трупа», безмолвный (ну разве что припугнуть Протасова, посильнее пнуть Петушкова) рантье парадной-чёрной лестницы. Время другое, доходы другие, но жить на них можно, как живёт Турецкий, — сухомяткой и слухами, случаем, всем тем, что людям кажется их личной жизнью и становится достоянием улицы и товаром. У пьесы Толстого богатая сценическая история, выдающиеся исполнители. Но прошлое хочется оставить в покое. Фокин обратил внимание на многое: на разночтения в вариантах, на незавершённость (как он считает) канонической версии, на перемену места действия — из Петербурга в Москву, и вернул Протасова с иными в Петербург. На то, что Толстой может быть «совсем как Чехов», и на то, что это начало абсурдизма в театре. Всё это интересно и заслуживает внимательного обсуждения (по профессиональной театроведческой привычке), но… за пределами первых впечатлений. Спектакль Валерия Фокина погружает в себя, он самодостаточен. Перекличка, или правильней — совет с Толстым, идёт по прямой, без посредников. Спектаклем «Живой труп» режиссёр ставит точку в трилогии о городе-мифе. Александринский имперский стиль режиссёром воспринят, обновлён и обогащён. | |
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ — КОНСТАНТИН ХАБЕНСКИЙ