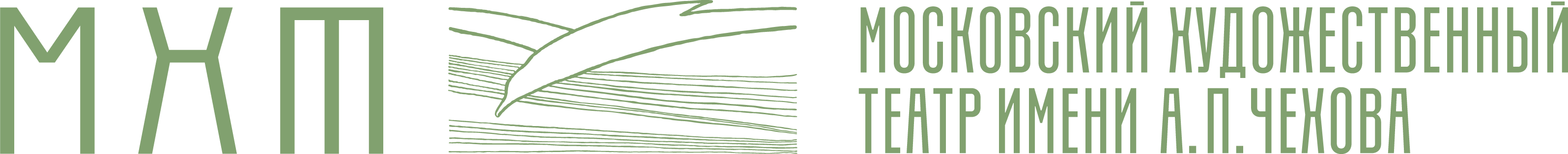Режиссеры | Виктор Рыжаков: ?Не люблю тотальный режиссёрский театр?— До «Кислорода» в вашей жизни много чего было. Вы работали в Московском ТЮЗе с Яновской и Гинкасом? Потом попали на Камчатку?— Да, на Камчатку меня Генриетта Наумовна отпустила. — В каком смысле «отпустила»? — Мне всегда нравилось учиться. После Щукинского закончил аспирантуру. Работал в театре «На досках». Потом произошла моя встреча с Яновской и Гинкасом, которые и стали моими настоящими учителями в режиссуре. Я находился рядом с ними как «тайный» ассистент. Старался понять, что же они хотят в этой профессии и как складывают эти ноты, под названием драматический текст… Играл роли в постановках Генриетты Наумовны. Так прошло несколько лет. Потом неожиданно поступило предложение поехать на Камчатку, возглавить театр драмы и комедии. Яновская меня отпустила на год. Я заключил контракт и уехал. — Что вы там искали? — Хотел улететь на край света, где настоящие мужчины пьют из алюминиевых кружек горячий чай и говорят об очень важных вещах. Думал, что там можно что-то понять. То есть сначала была обычная романтическая мечта. Ну, а на деле оказалось все сложнее, даже мрачнее. Когда я там оказался, был 1995 год: вся прежняя система разрушена, финансирования у театра нет, артисты живут в чрезвычайной бедности. Надо было что-то предпринимать. Как руководить театром, когда он в таком умирающем состоянии? По старой модели жить уже невозможно, а новую никто ещё не определил, хотя страна уже не первый день как перенеслась в иную экономическую формацию. Тогда я придумал попечительский совет. Да и не я придумал, а где-то вычитал или увидел в кино. И решил попробовать применить к театру. Собрал крупных рыболовецких бизнесменов, банкиров и других обладающих авторитетом и финансами личностей и заинтересовал их, разработал соответствующий юридический документ. И все остальные годы театр фактически существовал за счёт этого Попечительского совета. Мы выезжали на гастроли за границу. И уже считались провинциальным театром только географически, фактически же были европейским или даже театром мировым. А камчатским бизнесменам было приятно, что театр сегодня в Америке, завтра в Шотландии. Вы бы видели, как изменились актёры, как встречала их камчатская публика, как любили зрители… Параллельно я играл в Москве профессора Преображенского в «Собачьем сердце» и очень дорожил этим замечательным спектаклем. Летал девять часов в одну сторону, девять — в обратную. Генриетта Наумовна каждый год говорила мне: «Хватит»! И в каждом спектакле, который она начинала делать, в распределении стояла моя фамилия. Я догадывался, что это не просто, чтоб я играл. Меня, вероятно, пытались привлечь для других целей. И каждый год я говорил ей: «Ещё чуть-чуть». А она мне отвечала: «Говорила же тебе, что завязнешь». Так прошло 6 лет. Но однажды она категорически сказала: «Всё, хватит». Произошло это тогда, когда Кама Миронович набрал курс режиссёров в Школе-студии МХТ. Тут уже она не шутила. Да и я к тому времени осознавал, что «капитализм» в отдельно взятом театре не построить. Тем более, что на Камчатку пришёл «красный» губернатор. «Что, искусство — это не идеология?» — вопрошал он. Ну, а я по натуре не воин, шашкой махать не умею, и решил, что действительно хватит! Приехал в Школу-студию педагогом на курс Гинкаса. И это была ещё одна моя профессиональная школа. На курсе тогда было 9 студентов. Я был как бы десятым. Это были невероятно счастливые годы… — Мне нравится, как вы о себе говорите — как будто умаляете своё значение, считая себя постоянным учеником. — Не знаю. Я пытаюсь заниматься режиссурой, но не могу сказать «я — режиссёр». Не то, чтобы боюсь, нет, не боюсь. Я же делаю работы, рискую, не трушу отвечать перед собой и артистами… Но всё равно пусть об этом скажут другие, так будет вернее. Иногда я с ужасом осознаю, что очень глупо живу. Всё время думаю: вот многие уже выросли, стали взрослыми дядями, а я будто остался в каком-то детском состоянии. Мне даже как-то сказали: «взрослей быстрее». А я не могу, не хочу взрослеть. Не хочу становиться взрослым, потому что тогда мне придётся ещё больше врать. То, что я говорю — ужасно!? Словно хвастаюсь: вот я какой! А они — ух какие!?. Но ведь я, правда, вижу, как люди вырастают. Вот они уже начали сниматься в кино, говорить общие слова, опаздывать на репетиции, обсуждать гонорары, зарубежные поездки… стали другими. Думаю: ёлки-моталки, зачем так быстро? Куда торопятся… Ну, нельзя же так быстро сдаваться. — Своими постановками вы связаны с новой драмой. Это для вас какая-то особая тема? — Тема потому, что почувствовал вкус работы с текстом, который рождается рядом с тобой. На Камчатке началась наша история с Ваней Вырыпаевым. Для меня — знаменательная. Он появился неслучайно: так же, как и многие уникальные люди в моей жизни. Мне тогда в театре нужны были молодые актёры. Вообще я считаю, что театр — дело молодых. Вот я и поехал на поиски. В Магадане встретил замечательную молодую пару с годовалым ребёнком: Ваню Вырыпаева и Свету Иванову. Сделал им предложение. С того дня начались наша история. Мы репетировали «Горе от ума». Ваня — Чацкого, Света — Софью, всё складывалось потрясающе. Много работали над текстом. Иван уже тогда писал маленькие тексты. Мы в нашей театральной компании даже издавали журнал, он назывался «Птица и грим». Просто валяли дурака. Журнал был рукописный. И, конечно, Ванины тексты всегда отличались от других… Много всего было… А с 2001 года мы начали новую историю с Иваном уже здесь, в Москве. И все наши разговоры и споры о театре, мечты о театральной революции и какая-то личная переписка, по-моему, стали исходным материалом или своеобразным толчком для многих его текстов. Он оказался не просто талантливым, но бесконечно одарённым человеком. Когда появились первые композиции пьесы «Кислород», я был просто потрясён. Я тогда уезжал в Америку. А он говорит: «Давай попробуем, ты будешь режиссёром, а мы с Ариной будем играть». Я говорю: «Давай. Учите текст, ты пиши дальше». Мне казалось это игрой. Когда в конце лета я вернулся, они уже пробовали это читать, очень лихо. А 29 сентября 2002 года мы уже сыграли премьеру. — Были в вашей жизни другие знаковые фигуры? — Да. Женя Гришковец. В Екатеринбурге на фестивале я встретил интеллигентного, безумно нестандартного и обаятельного человека с потрясающей группой ребят, которые делали тогда то, что казалось просто невозможно делать. Это была для меня удивительная встреча с другим театром. Теперь я понимаю, что Женя как актёр и автор в одном лице — это одно. А то, что он делал со своими актёрами — это совсем другое, это было очень и очень мощно и осязаемо по-новому. Потом так получилось, что я пригласил Женю с его актёрами на фестиваль независимых театров, который мы организовали в Лазаревском — Сочи. Фестиваль назывался «Театр в поисках театра». Кроме кемеровской Ложи Гришковца там был пермский театр У моста, этнографический театр из Элисты, другие нестандартные, но бесконечно интересные группы. Мы собирали полные залы, спорили, ругались и… обожали друг друга. И ощущение времени было совершенно особое. Сейчас думаю: неужели это всё было с нами? Теперь всё изменилось… — Про «Кислород» говорят, что это театр новаторский. Вы можете определить, в чём новаторство? Что вас не устраивало в традиционном театре, от чего вы отталкивались? — Я говорю, может, крамольные вещи, но меня не устраивал тотальный режиссёрский театр. Исторически сложилось, что режиссёры узурпировали всю театральную власть. Нет текста, нет артиста. И пытались творить всё, что угодно. Я не говорю об уникальных театрах Эфроса, Любимова, Товстоногова… Это отдельная история. Я говорю о театре советском, который складывался по особым изуродованным клише, был массовым и размножаемым. Режиссёры были жёстокими и безапелляционными по отношению к актёрам и авторам. Тексты переписывались. Артиста уничтожали как личность. А уничтожили — как класс. Я видел, что это повсеместное явление. Насмотрелся такого… Испытал и на себе. Но ведь артист становится совершенно другим, когда с ним говорят на равных. Мне актёры всегда отдавали очень многое. И я пользовался этим. Никогда не придумывал спектакль дома. Так неинтересно, нечестно, казалось. Приезжал в какой-то театр, узнавал людей, читали текст, общались… и увлекались вместе. Когда нам было по-настоящему интересно, тогда всё и начинало складываться. Спектакль у меня всегда получался вместе с теми, с кем искал и работал. Если мы пытались со сцены говорить о поколении, мы говорили от своего имени, и тогда эта история становилась реальностью. Важно создать среду, в которой захочется говорить свободно и на равных. Чтобы звучал собственный голос актёра. И не только интеллектуально, а главное — открыто эмоционально. В тональности сегодняшнего «крика». У Володина помните: «…вчера шла по Садовой, грузовая машина врезалась в остановку, люди стали кричать, я прочь оттуда, а одна женщина как закричит, я бегу, а она все кричит… кричит…». Вот и этот крик от какой-то конкретной человеческой боли. Эту потребность прокричать о самом главном и можно услышать в актёре. — Мне кажется, что секрет ваших успехов связан именно с тем, что вы умеете услышать актёра. Вы, очевидно, относитесь к тому редкому типу людей, которые уважают чужое «я». — По-моему, в театре как раз на этом всё и построено. Уникальность театра в сотворчестве, и это не просто слова. Театр — искусство коллективное. О примерах этому противоречащих, могу говорить с сожалением и, конечно же, с улыбкой… — У вас были в жизни компромиссы? — Были. Вот кто-то сделал мне предложение, я соглашаюсь и тут же понимаю, что совершил нечто чудовищное. Так у меня было в Польше, в Торуни. Мне предложили поставить спектакль по текстам Ивана. Я понимал, что это невозможно сделать в этом театре потому, что он существует по другим законам. И вряд ли я смогу там кому-то и чем-то помочь, могу только навредить. И в тот момент, когда я согласился, я понял, что самонадеянно соврал. Но это же и не дало мне возможности сдаться. Дошёл до конца. Этот путь не прибавил мне счастья, а прибавил страдания. Ладно, спектакль вопреки моим опасениям как бы получился благополучным. Но сомнения не покидали. Вот они в очередной раз поехали на какой-то фестиваль, меня вызвали, я опять что-то подправлял. Все свои спектакли я перманентно репетирую. Так сложилось. Не могу без этих спектаклей спокойно существовать, это уже часть меня самого. Если они получаются плохими, мне не хочется жить, я готов провалиться сквозь землю. И тогда говорю себе: значит, обманул зрителей. Они пришли что-то важное увидеть, а ничего не произошло. Поэтому я не люблю театр, клянусь, — кроме горя, мне он ничего не приносит. Ничего. Моменты счастья мгновенны — это моменты общения с людьми. А сейчас вот Олег Павлович Табаков приглашает подумать о постановке. И я не знаю, как быть. — Значит, вы становитесь модным режиссёром… — Какой я модный? Модные — это Нина Чусова, Серебренников. На них ходят. Как у нас ходят на Вырыпаева. Если бы не было его, не было бы такого внимания к нашим спектаклям. А что касается Олега Павловича, то рано об этом говорить… Он хочет всё быстро. А у меня быстро не получается. Я всегда долго ищу текст, персонажей, пространство… свою историю. Быстро не могу. Хотя вроде и не кисейная барышня. — Существует ли для вас наиболее приемлемая модель театра? — В мечтах — да. Вот Театр.doc — это, по-моему, уникальное явление в пространстве российского театра. Я не пишущий человек. Но когда-нибудь обязательно напишу текст об этом феномене, Театре.doc. Правда. Это для меня наиболее приемлемая, успешная модель театра, который существует вот уже 4 года. Там нет администрации. Нет технического персонала. Есть только помещение в центре Москвы, подвал, в котором идут спектакли. Этот театр не может прогореть, единственное, за что мы всегда боремся, это чтоб его не засорили. В буквальном смысле. Там периодически вычищают грязь. Выносят хлам. Там и создавался наш «Кислород». Я был счастлив, что мне удалось весь курс Гинкаса привести туда, и студенты получили там первое крещение. Сделали там первые профессиональные работы. Два года назад ещё трудно было предположить, что московские академические вузы смогут спуститься в подвал Театра doc. Но вот уже первая кафедра Школы-студии прошла там, и обсуждала курсовые работы студентов, «новую драму», которую все ругают. И это были спектакли, за которые не было стыдно. А Кама Миронович, кажется, всю жизнь и был такой новодрамовец. Человек, который изменяет традиции, создаёт свой драматический текст, свой мир, непохожий и больной… и каждый раз потом начинает заново. — Не слышала такого термина. Что такое новодрамовец? — Это не качественное понятие. Для меня это нравственное понятие — способность жить сегодня, сейчас… Зачем мне говорить то, о чём говорили вчера? Я задаю те вопросы, которые меня волнуют сегодня. Кого мне обманывать? — Расскажите о спектакле «Кислород»? Какие там болевые точки? Какова картина мира? — Да я и не думал о картине мира. За всем этим стоит живой, сопереживающий, страдающий человек и потрясающий ритм. Это поэзия. Отчего мы все страдаем на этом свете? Оттого, что не можем жить, как хотим. Я всегда в конфликте с самим собой. Изнутри понимаю, что что-то не так, а сделать ничего не могу. Человек чувствует, что он живой, а это всегда болезненно. «Моя проблема в том, что нет причин для страдания, а я — страдаю…» — говорит героиня последнего драматического текста Ивана Вырыпаева. Наверное, это и про меня… — Но всё-таки о чём спектакль? — Этот вопрос мне часто задают, я пытался сформулировать. Но всегда понимал: что бы я ни сказал, будет неверно. Как только я это назову, всё потеряется, станет неправдой. Не могу объяснить, почему, но это так. — «Мысль изречённая есть ложь»… — Когда я был мальчишкой, признался в любви одной девчонке, потом встречался с другой, тоже влюбился, но не мог признаться в таких же чувствах. Потому что понимал, что скажу слова, которые уже говорил другой. Мне казалось, что это обман. Есть что-то помимо слов, и не слова — главное. А то, что за ними. Текст в театре — это не слова, это буквы, собранные в определённом порядке. Они и дают ритм. Слова могут обмануть. Буквы не обманывают. — В вашем спектакле есть какое-то особое, трудноуловимое качество. Не похожее на то, что мы видим в обычном театре. — Ведь настоящий театр как счастье, он вдруг неожиданно возникает, а потом исчезает. Поэтому и говорят, что театральное искусство эфемерно. Вдруг он есть, но это только секунды. Так бывало с Иннокентием Михайловичем Смоктуновским. Приходишь на спектакль, ждёшь — сейчас он будет гениально играть, а он не играет. Потом вдруг что-то случается. Невозможно быть в театре счастливым человеком, счастливым человеком в театре можно быть только на очень короткое время. — Вы не обычный человек для режиссёра. Вот Серебренников — совсем другой тип человека, знающий, что ему надо и очень определённого, даже резкого в высказываниях… — Я всегда завидовал таким. Они плодовиты, у них столько сил. Они востребованы, любимы артистами. Вот замечательная Чулпан Хаматова говорит, что с Кириллом очень интересно работать. И я верю… — Чулпан — молодая актриса, у неё не такой уж большой опыт общения с театральными режиссёрами. — Вы серьёзную тему затрагиваете. Конечно, мне не со всеми по пути. Они делают так, а я делаю, вероятно, прямо противоположное… — А что противоположное? Вы имеет в виду, что Серебренников для вас — оппонент? — Когда люди занимаются трюком, даже очень изобретательным, это всё равно остаётся трюком. Я обманываю не тех, кто в зале, и не тех, кто со мной работает. Я обманываю самого себя. Это уже другое. «Я сам обманываться рад…». Но всё-таки я ощущаю, что вот Кирилл взрослый, а я — мальчишка. Все они уже очень взрослые… — На какой территории существует «Кислород»? — Сейчас в театре Практика, хотя по родословной мы из Театра.doc. А вот «Бытие№ 2», созданный на деньги Штутгартского театра мира и при поддержке Театра.doc, сегодня почти свободный театральный проект. За ним ничего нет. Мы с Иваном сами вынуждены зарабатывать на него деньги. Потому, что надо платить за аренду, средств, которые мы выручаем, едва хватает на то, чтобы заплатить артистам. Они ведь должны получить вознаграждение за свой труд. — Что вы собираетесь ставить теперь? — Не знаю! Время покажет. Вот мечтал о спектакле с Валерием Бариновым. У нас есть потрясающий немецкий текст о бывшем участнике Второй мировой войны. Даже давал заявку на грант ещё к 60-летию Победы, но мне сказали, что к 60-летию грант получить невозможно. Так как выходит, что пьеса о ветеране - бывшем фашисте. Жаль. Потому что эта история о том, что после войны не бывает победителей и побеждённых, а есть только одно — страдающий человек, в котором война поселяется навечно. После неё всё сломалось; он жил не так, любил не так и остаётся без ничего перед смертью, в полном одиночестве. Почему-то я всё это очень хорошо чувствую, может быть потому, что из поколения афганцев… Кто прошёл войну и принял её, впустил в себя — конец… Зло не надо впускать в себя. А война и есть зло. Хотя это легко сказать. В реальности всё сложнее. | |
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ — КОНСТАНТИН ХАБЕНСКИЙ