Директор Шекспировского института, профессор Майкл Добсон о спектакле «Венецианский купец» в постановке Екатерины ПоловцевойВ июне этого года в Московском Художественном театре состоялась премьера спектакля «Венецианский купец» по одной из самых неоднозначных и провокационных пьес Шекспира. Зрителем премьерного показа стал Майкл Добсон — директор Шекспировского института при Бирмингемском университете (Великобритания). Первыми впечатлениями от постановки он поделился летом на встрече с режиссёром спектакля Екатериной Половцевой и актёрами МХТ. А теперь мы публикуем его статью, посвящённую мхатовскому спектаклю.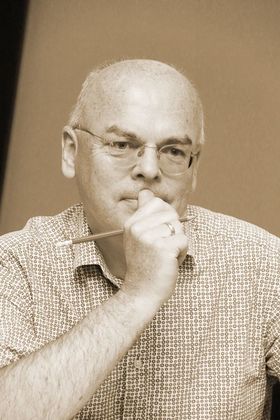 Если есть способ увидеть постановку «Венецианского купца» не глазами шекспироведа и жителя страны, где эта пьеса была написана, то он один — посмотреть ее в национальном театре какого-нибудь другого государства. Из всех постановок «Венецианского купца», что я видел с семидесятых, это самая радикальная попытка отделить этику от национальной и религиозной идентичности и судить венецианских судей по той же мерке, как они судят Шейлока. И она была предпринята отнюдь не в стране, где говорят по-английски — и даже не в Западной Европе. Театр, о котором я говорю, — самый престижный в столице, которую он украшает своим присутствием. Сто лет назад он был частным предприятием, не пользовался покровительством монарха и не имел государственных субсидий. В самый первый его сезон (1898) там ставили как раз «Венецианского купца», но спектакль провалился, а театр едва не обанкротился. К счастью, следующая постановка, последняя в том году и полная отсылок к другой шекспировской пьесе — «Гамлету», имела бешеный успех. Этим спектаклем была чеховская «Чайка», а театром — Московский Художественный театр. МХТ навсегда сохранил чайку в стиле ар-нуво с афиши того спектакля и сделал ее своей эмблемой. История постановок Шекспира в МХТ знает много прославленных спектаклей, но «Венецианского купца» среди них нет. Российские театры с 1920 года до падения коммунистического режима эту пьесу почти не ставили: официально в СССР «еврейского вопроса» не существовало, а значит, и пьесы о нем считались ненужными. И вот теперь, в конце прошлого сезона, молодому режиссеру Екатерине Половцевой доверили поставить «Венецианского купца» на большой сцене. Премьера прошла 7 июня 2019. Мои коллеги из Шекспировской комиссии Российской академии наук рассказали мне об этом спектакле, и я посмотрел его 29 июня, а на следующее утро мне удалось поговорить с режиссером и труппой. Несмотря на современный, в чем-то даже разговорный язык перевода, в постановке Половцевой «Купец» — пьеса не только о местных проблемах. Это спектакль именно в традициях МХТ, хотя, возможно, и с некоторой долей лукавства. Первое, что бросалось в глаза — это подвешенный на тросе мобиль, похожий на еще более стилизованный вариант стилизованной чеховской чайки, которая уже сто лет украшает занавес театра. Мобиль был не единственным экспонатом в современной художественной галерее, куда мы, кажется, попали на закрытый вернисаж. В холодном свете звуки барочной камерной музыки постоянно перебивались призывным рокотом ударных и баса откуда-то из-за сцены, как будто там шла бурная вечеринка. По сцене, как по вернисажу, от одного экспоната к другому ходили модно одетые люди, официанты разносили шампанское, а справа уходил в кулисы остов недостроенного корабля. И хотя нам не показали ни одного палаццо или гондолы, это все же была Венеция, тот самый претенциозный город для элиты, город венецианского Биеннале. На настоящем Биеннале летом 2019 года самые громкие споры вызвал выставленный в качестве экспоната остов корабля, на котором мигранты из Сирии пытались попасть в Европу. Теперь этот корабль стал эстетическим объектом и, может быть, одновременно предметом размышлений о социуме. Модники, прихлебывающие шампанское в первой сцене первого акта, казалось, наслаждаются издалека страданием других, запутавшись в бессмысленной роскоши неосуществимых эскапистских мечтаний. Ноту серьезности в эту рисовку вносил Антонио. С первых же минут, словно «худая овца» в стаде, он отличался от остальных. Опираясь на трость, он начал: «Откуда, не пойму, моя печаль», лишь отчасти обращаясь к собеседникам. Они же отвлекались от его рассказа, чтобы еще раз сходить за шампанским, потолкаться в толпе или бесцеремонно поиграть с экспонатами. Из всех пришедших на вернисаж лишь Антонио, кажется, с беспокойством ощущал разъедающую пустоту вернисажа. В следующей сцене Бельмонт оказался не похож на тихое гнездо покоя и стабильности, которое обычно режиссеры противопоставляют модной и переменчивой Венеции. Скорее, нам открылся другой зал той же галереи, но его экспонаты — Порция и три ларца — по крайней мере составляли логичную и поучительную экспозицию, а обе девушки — Порция и Нерисса — были друг к другу добры, великодушны и друг с другом откровенны. Интересно, что в реплике Порции о принце Марокканском слово “complexion” переведено расширительно, без возможного расистского прочтения: «…Не нужны мне, право, / Мужья такого облика и нрава». Словно охваченная тревогой, Порция исчезла, пока Бассанио обдумывал, какой ларец выбрать (III.2). Но вот выбор сделан — и из свинцового ларца, как будто родившись заново, появляется сама бельмонтская наследница, а не ее портрет. Этот театральный прием помог Половцевой вырезать длинный монолог Бассанио о сходстве портрета с подлинником — монолог, который редко звучит со сцены естественно. Поэтому в словах Порции «Я вся перед тобой, синьор Бассанио» звучали одновременно и некоторое театральное самолюбование, и искреннее счастье. Это был самый радостный момент спектакля. Как бы остро в нем ни высмеивали нарциссизм и агрессию персонажей «Купца», по крайней мере до антракта (который, кстати, был необычно поздно — между третьим и четвертым актами) еще сохранялась возможность, что любовь спасет их. До антракта Бассанио выглядел хоть и охотником за приданым, но неожиданно вполне достойным человеком. В начале второй сцены третьего акта большую часть монолога Порции («Помедлите, прошу вас…») заменили на изысканный танец двух силуэтов на фоне водопада, сквозь который виднелась все та же чайка. Казалось, эта пара сейчас улетит. Но вот из Венеции пришли новости о том, что Антонио — банкрот и его жизнь в опасности. В постановках «Купца» кульминацией обычно становится сцена суда. В этот рискованный момент Бассанио опрометчиво решает поставить Антонио выше Порции в своем сердце. Затем приоритеты снова меняются в пятом акте, когда интрига с кольцом завершается на тех условиях, которые выдвигает Порция. В постановке Половцевой сцена суда, напротив, превращается в моральную катастрофу, преодолеть которую невозможно. Признаки такой развязки появились довольно рано, когда стало ясно, насколько герои пьесы склонны искать козла отпущения и предаваться психологическому проецированию. В самом начале «Купца» Антонио не может найти источник своей печали — так и все персонажи либо видят причину своего утраченного счастья в ком-то другом, либо сваливают на другого свои проблемы. Иногда оба «других» — это один и тот же человек. В комическом ключе так поступает Грациано: он и любит Нериссу, и раздражен из-за нее. Борясь с охватывающей его яростью, он долго пытается открыть бутылку шампанского, чтобы отпраздновать помолвку (прекрасный комический прием!), а потом постоянно наливает из нее только самому себе, забывая об остальных. Скоро так же тревожно прозвучит нужда и обида в речи Бассанио. Пересказывая Порции письмо Антонио, он почти открыто упрекает ее в том, что деньги у друга он занял ради нее. Тем временем сам Антонио видит презренный и отвергнутый образ самого себя в Шейлоке — и еще сильнее идентифицирует себя с Бассанио. В постановке Половцевой нет комически-лицемерной претензии на беспристрастность, когда Порция, появляясь на суде, спрашивает, кто здесь еврей, а кто купец Антонио (IV.1). Одежда обоих не выдает их национальную и религиозную принадлежность, оба старше, чем Бассанио, оба опираются на трости. Хромота не дает Антонио превратиться во второго Бассанио, и она же делает Шейлока вторым Антонио — его alter ego и козлом отпущения. Ни домашняя обстановка, ни обычаи не выдают в Шейлоке еврея. Перед уходом на ужин к Антонио, прежде чем попрощаться с Джессикой, Шейлок играет сам с собой в шары. С ним только юный нахальный Ланчелот. Этот Шейлок становится объектом насмешек и издевательств венецианских франтов не потому, что он еврей, хотя антисемитских выкриков в спектакле немало. Скорее просто потому, что он стар, одинок, что он как родитель — один перед толпой юнцов. Христианство никак не проявляет себя в юных венецианцах. Они используют язык религиозной ненависти даже не для того, чтобы утвердить свое превосходство, а просто как предлог для издевательств. Ударные и бас в музыкальном сопровождении передают эту оглушительную тиранию толпы юных гедонистов, угрожающую тишине Шейлока. Его трагедия — в том, что, потеряв Джессику, он сам наполнился яростью, впустил ее в себя. Вся Венеция охвачена гневом и ищет, на кого бы его излить. В первой сцене третьего акта Салерио и Соланио, столкнувшись с Шейлоком, удаляются в смущении, и фрагмент «А что еврей — не глазами, что ли, смотрит?» играется как внутренний монолог. Я спросил Екатерину Половцеву, почему она решила, что Шейлока визуально ничего не должно связывать с еврейской диаспорой. Меня перебил Сосновский-Шейлок. Как самый старший среди занятых в спектакле актеров представитель школы Станиславского, в театре Станиславского, сидя под портретом Станиславского, он проворчал: настоящему актеру не нужны костюмы и реквизит, чтобы передать характер еврея. Половцева же настаивает, что ее целью было не уклониться от проблем современности, а подчеркнуть их. По ее словам, достаточно спуститься с коляской в московское метро, чтобы кто-нибудь, увидев в тебе причину всех своих проблем, накричал бы на тебя — что и говорить о виртуальных расправах друг с другом в соцсетях. «Меня не столько интересует антисемитизм сам по себе, — говорит Половцева, — сколько психологический и социальный механизм возложения вины на постороннего, гнева на него и его отвержения. Антисемитизм — всего лишь один из примеров того, как работает этот механизм». Новизна постановки именно в том, что сцена суда становится катастрофой не только для Шейлока, но и для его противников, разрушая все их взаимоотношения. До антракта недостроенный корабль был знаком надежды на возможные перемены. Когда же занавес вновь открылся, у самого задника мы увидели то, что осталось от корабля — жалкие обломки. Мимо этих обломков, шатаясь, проходит по пути из суда Шейлок — и падает на них. Обломки везде и во всем, и пятый акт ничего не исправит. Бельмонт теперь захвачен и отравлен Венецией, он потерял свою многоцветность. В нем царит та же толпа эгоистичных и агрессивных хипстеров, которые кричали Шейлоку на суде: «Жид!». Теперь они празднуют победу, устроив еще одну шумную и пустую вечеринку. Порция и Нерисса, более не доверяя мужьям, рассказывают Бассанио и Грациано, что провели ночь с юристом и его писцом, чтобы вернуть свои кольца. На этом их рассказ и заканчивается: Порция и Нерисса не объясняют, что юристом и писцом соответственно были они сами. Нет и письма, которое Порция у Шекспира передает Антонио, сообщая ему, что его корабли таинственным образом не погибли. Перед нами павший мир, в котором ни на богатство, ни на верность близких больше нельзя положиться. В нем не осталось ни одной счастливой пары. Диалоги Бассанио и Порции, Грациано и Нериссы сокращены, наложены друг на друга, и перенесены в глубину сцены. Героиней последних минут спектакля становится Джессика. Хватаясь за голову, она бредет сквозь толпу и падает на колени. А с другого конца сцены, от обломков корабля к ней идет невидимый для остальных Шейлок, словно призрак Банко. Джессика, кажется, не может произнести слова поминального кадиша, чтобы призрак наконец оставил ее в покое. Вот такого «Венецианского купца» для постмодернистского, пострелигиозного общества показал Московский Художественный театр. В нем много серьезного, но нет религиозности, и самые возвышенные слова прозвучали не на спектакле, а после него. Я услышал их в рассказе Екатерины Половцевой о том, что для нее значит ставить Шекспира, и этот рассказ звучал очень по-русски и одновременно передавал некий всеобщий смысл: «Встреча с Шекспиром — это встреча с Космосом, ощущение, что разговариваешь с ним через время, и Шекспир посылает тебе ответы. Работа над этим автором требует особой концентрации и тщательности. Это бесконечный поиск, в процессе которого меняется твоё мышление, начинаешь мыслить образами, метафорами. Текст преображает нас». Отвечая на сигнал, который Шекспир, как Гагарин, посылал ей с орбиты, Половцева превратила свою постановку в актуальное размышление о том, в каком состоянии находится российская публичная сфера. Но в то же время в спектакле слышен диалог с пьесой, написанной в елизаветинской Англии, а также со всемирной традицией ее постановок, в том числе в Венеции и Израиле. Ее автор — Шекспир — живет не в единой всемирной традиции, а во множестве локальных. Чем чаще «Венецианский купец» получает права гражданства в репертуарах национальных и транснациональных театров, тем более космополитичной становится сама пьеса, но не ее герои. Если Кеннет Гросс прав, и Шейлок — это сам Шекспир, то бардопоклонство уже стало мировым феноменом и далеко вышло за пределы одного государства. В этом сезоне «Венецианский купец» вернулся в Москву, а театр, созданный во имя искусства, ради Шекспира на время превратился одновременно в храм и в центр управления полетами. Бог с ними, с государственными гимнами, храмами и странами — храни Господь нашего всемирного поэта. Перевод Владимира Макарова  | ||
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ — КОНСТАНТИН ХАБЕНСКИЙ

